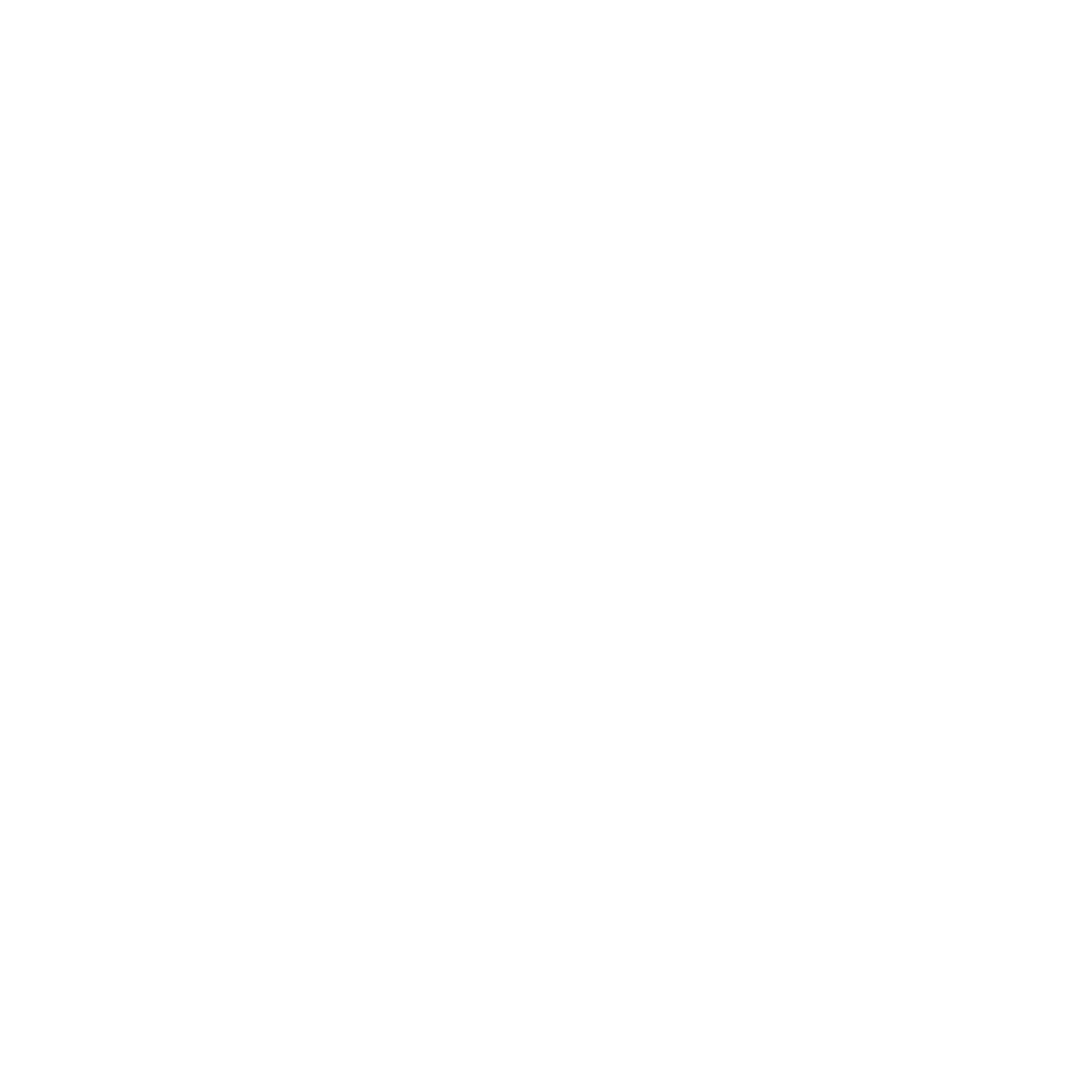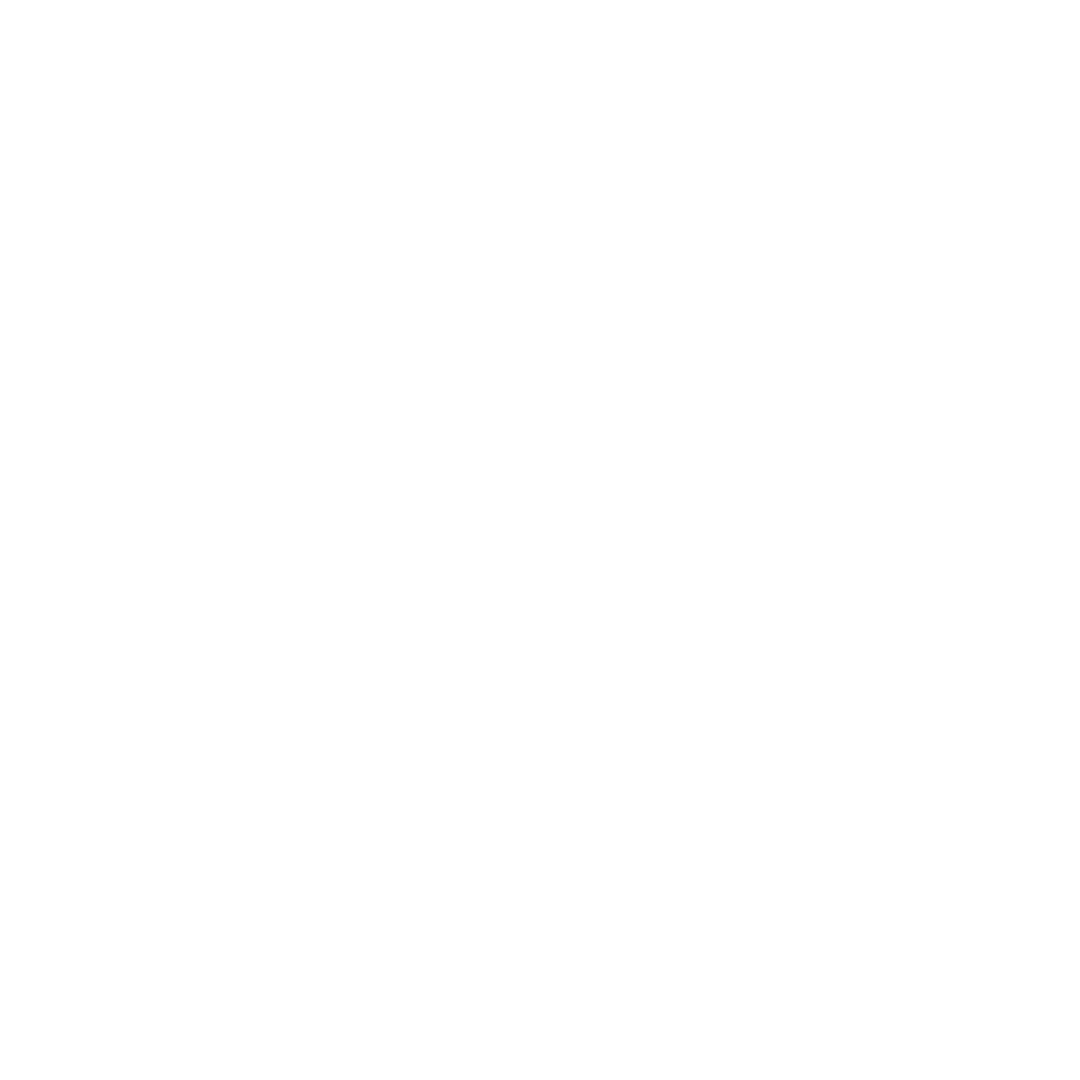Горнолыжная тоска Георгия Дубенецкого
Мэтр горнолыжной журналистики Георгий Дубенецкий описал свою тоску по горам — спорим, вы давно не читали ничего более поэтичного!
Журнал: «Лыжный спорт» № 24, 2003 год
Текст: Георгий Дубенецкий
Внутри ворочается похожая на шершавый, царапающийся, словно скатанный из жесткой шерсти клубок — тоска по горам.
По знакомому профилю хребта справа и висячему леднику слева, убегающей в лес дороге позади и уходящему ввысь склону впереди. По полупрозрачной вуали, медленно висящей в воздухе после падения пушистого кома с одной из верхних веток сосны, почти бесшумно освобождающейся от следов прошедшего ночью снегопада. По светлеющему утром, одновременно с появлением совершенно фантастически розовых верхушек у только что тёмных гор, небу.
По засыпанному белым лесу, снеговым шапкам на деревьях и сугробам по обочинам дороги. По тяжести лыж на плече и необычному комфорту привычных ботинок. По слепящему солнцу и — с чуть фиолетовым оттенком — небу, зеленоватому льду и прозрачной, как хрусталь, воде, длинным синеватым теням сосен на искрящемуся снегу, ржавым потёкам нарзана на камнях возле реки и разноцветной, как на картинах пуантилистов, людской ленте у подъемника.
По неумолчному шуму реки и женскому смеху за поворотом тропинки под соснами. По стуку снежной крупы по капюшону куртки и резким крикам альпийских галок, шипению снега под кантами лыж и шороху раскачиваемых ветром ветвей. По обрывкам музыки, доносящейся из кафе и шуму собственного дыхания во время короткой остановки. По тихому шелесту мягких снежинок и шуршанию куртки, скрипу пластиковых ботинок и гулу работающего подъемника, приветственным возгласам знакомых и щелканью креплений. По шашлычному дымку и мимолётным запахам горячего вина, талого снега и нагретого солнцем дерева, пару от дыхания, растворяющемуся вечером в бархатной черноте неба с россыпью алмазов — звезд. По плавному движению кресла, поднимающего тебя вверх, к самому краю неба, откуда опять вниз, и так — вниз и вверх — по кругу...
По скорости, которая выбивает ветром слёзы из глаз даже сквозь очки, и управляется тобой. По мгновениям одиночества во время спуска, когда ты каждой клеточкой своего сознания впитываешь и скорость, и всё, что вокруг: всё то, что составляет эту неповторимо сложную и вместе с тем до мельчайших чёрточек знакомую картину, которую хочется взять с собой и смотреть, смотреть на неё, когда тебе плохо и когда хорошо, делиться ею с друзьями и оставлять себе одному.
По какой-то совершенно особенной, кошачьей мягкости, быстроте и точности движений, позволяющих пройти по задуманной траектории, или внезапно, не снижая скорости, отказаться от намеченного пути и повернуть в абсолютно незапланированном месте, круто изменив весь ход истории. По куражу, который, если очень-очень повезет, появляется в тебе, и тогда получается всё, и ты знаешь, чувствуешь, что вот с именно сейчас, ты можешь сделать это и вот это — и всё получится, эти редчайшие мгновенья сумасшедшей, абсолютной Удачи, которые не променяешь никогда и ни на что, которые будешь помнить потом всегда, потому что они чрезвычайно редки, эти хрупкие мгновенья.
Тоска по белой мгле, которая — словно ватой — окутывает склоны вместе со всеми звуками, и не слышно ничего, и ты, плывя сквозь оглохшую тишину на кресле вверх и ловя взглядом проявляющиеся в тумане зыбкие тени деревьев и скальных выступов, инстинктивно начинаешь откашливаться или шумно поправлять воротник куртки, чтобы хоть какие-то звуки были слышны в белом безмолвии. Тоска по такому необходимому именно сейчас глотку обжигающего чая из белого пластикового стаканчика, заодно согревающего замерзшие руки. По гулу в заполненном раскрасневшимся от уютной теплоты людом кафе, в котором, когда входишь, очки сразу же напрочь запотевают, и ты отряхиваешься, сбрасывая снежные брызги с плеч, и снимаешь или сдвигаешь очки, чтобы увидеть всю эту теплоту, и краем глаза поймать взмах руки знакомого, приглашающий за стол с подвинувшимся для тебя народом, знакомым или незнакомым — не имеет значения, вы сейчас здесь все — свои.
По медленному погружению всего того, что тебя окружает, в темноту, которая как бы заливает горы, — в конце концов в эту темноту опускаются и огненно-оранжевые верхушки самых высоких вершин, а потом и небо темнеет, и на нём проявляются звезды, и наступает морозный вечер, и снег начинает хрустеть под ногами, когда возвращаешься к себе. По точкам огоньков на склоне, висящим ночью ровно посередине между засыпанной мерцающим голубым серебром землёй и провалом неба, и по ночным воплям шакалов. По мгновеньям какой-то особенной, физически осязаемой тишины, которая иногда возникает далеко за полночь в кругу сидящих в комнате людей, наблюдающих за медленно опускающимися хлопьями чая в трехлитровой банке. По какому-то непонятному, с оттенком дерева, вкусу чая с облепихой, которую добавляли в эту самую банку с чаем.
Горизонтальное городское пространство кажется бесконечным — может быть, из-за не имеющих ни конца, ни начала, теряющихся в смоге лент стоящих в пробках машин, или из-за того, что откуда бы ни смотрел — края этого моря крыш не видно. В то же время оно, это городское пространство, ограничено со всех сторон, свободно только направление вверх, к небу. Может быть, именно в поисках дополнительных степеней свободы мы и едем в горы.— туда, где кроме вправо-влево-вперед-назад можно еще вверх и вниз? Просто надоедает эта городская ограниченность движений, громкости разговоров или криков, невозможности выкрикнуть что-то громкое, задорное, просто потому, что хочется, от переполняющих тебя чувств. Да и не хочется выкрикивать, разве что спьяну — но ведь это же не то, это ведь совсем другое — спьяну: это не от твоей внутренней свободы, а благодаря развязывающему ограничения алкоголю...
Может быть, ты тоскуешь по тем местам, где можно нырнуть под огораживающий трассы «волчатник», и оказаться один на один с горами, хотя бы ненадолго освободившись от всего того, что ограничивает твою свободу, опутывает тебя невидимыми, но от этого не менее прочными нитями, в городе? Тоскуешь по тем сохранившимся заповедным уголкам, где еще можно испытать себя, раздвинуть границы того, что «можно», загнав в дальний уголок невостребованное «нельзя»?
Или эта тоска — по возвращению? По возвращению в знакомый до мелочей мир, который не меняется, что бы ни происходило, поскольку с точки зрения вечности всё, что произошло со времени твоего отъезда отсюда, — не играет никакой роли и не имеет ни малейшего значения. Тоска по всему, с чем у каждого из нас ассоциируются горы и лыжи — они ведь у каждого свои, при всей внешней похожести и нас, и гор, и лыж...
А может быть, мы там становимся такими, какими хотим быть или казаться: кто-то сам собой, сбросив городскую шелуху, а кто-то — быстрее, сильнее и даже моложе, несмотря на седину? Может быть, для нас тоска по горам — это тоска ещё и по собственной молодости, по несбывшимся из-за «обстоятельств» надеждам и мечтам, по переходам через перевалы и ледники, походам, восхождениям, палаткам, дружбе и любви — по всему тому, чему не суждено повториться, что мы вспоминаем, как самое яркое и самое лучшее, что было в нашей жизни. Мы каждый год возвращаемся к тем местам, где нам было хорошо, в надежде на то, что там снова будут те же горы, те же люди и те же эмоции...
На экране монитора, стоящего на моем рабочем столе в офисе — заснеженные горы. Утром, включив компьютер, я пару минут смотрю на то, как солнце садится за хребет Аибга, и на какое-то время шершавый клубок тоски затихает, перестаёт ворочаться.
У тебя на мониторе другая заставка? Значит, ты ещё не начал тосковать. Ещё не брал в руки лыжи, не проверял остроту кантов, не рассматривал царапины, не пытался открыть в сторону переднюю головку креплений... Значит, ты ещё в лете.
Знаешь, я тебе даже чуть-чуть завидую.
Потому мне хочется в горы.
Журнал: «Лыжный спорт» № 24, 2003 год
Текст: Георгий Дубенецкий
Внутри ворочается похожая на шершавый, царапающийся, словно скатанный из жесткой шерсти клубок — тоска по горам.
По знакомому профилю хребта справа и висячему леднику слева, убегающей в лес дороге позади и уходящему ввысь склону впереди. По полупрозрачной вуали, медленно висящей в воздухе после падения пушистого кома с одной из верхних веток сосны, почти бесшумно освобождающейся от следов прошедшего ночью снегопада. По светлеющему утром, одновременно с появлением совершенно фантастически розовых верхушек у только что тёмных гор, небу.
По засыпанному белым лесу, снеговым шапкам на деревьях и сугробам по обочинам дороги. По тяжести лыж на плече и необычному комфорту привычных ботинок. По слепящему солнцу и — с чуть фиолетовым оттенком — небу, зеленоватому льду и прозрачной, как хрусталь, воде, длинным синеватым теням сосен на искрящемуся снегу, ржавым потёкам нарзана на камнях возле реки и разноцветной, как на картинах пуантилистов, людской ленте у подъемника.
По неумолчному шуму реки и женскому смеху за поворотом тропинки под соснами. По стуку снежной крупы по капюшону куртки и резким крикам альпийских галок, шипению снега под кантами лыж и шороху раскачиваемых ветром ветвей. По обрывкам музыки, доносящейся из кафе и шуму собственного дыхания во время короткой остановки. По тихому шелесту мягких снежинок и шуршанию куртки, скрипу пластиковых ботинок и гулу работающего подъемника, приветственным возгласам знакомых и щелканью креплений. По шашлычному дымку и мимолётным запахам горячего вина, талого снега и нагретого солнцем дерева, пару от дыхания, растворяющемуся вечером в бархатной черноте неба с россыпью алмазов — звезд. По плавному движению кресла, поднимающего тебя вверх, к самому краю неба, откуда опять вниз, и так — вниз и вверх — по кругу...
По скорости, которая выбивает ветром слёзы из глаз даже сквозь очки, и управляется тобой. По мгновениям одиночества во время спуска, когда ты каждой клеточкой своего сознания впитываешь и скорость, и всё, что вокруг: всё то, что составляет эту неповторимо сложную и вместе с тем до мельчайших чёрточек знакомую картину, которую хочется взять с собой и смотреть, смотреть на неё, когда тебе плохо и когда хорошо, делиться ею с друзьями и оставлять себе одному.
По какой-то совершенно особенной, кошачьей мягкости, быстроте и точности движений, позволяющих пройти по задуманной траектории, или внезапно, не снижая скорости, отказаться от намеченного пути и повернуть в абсолютно незапланированном месте, круто изменив весь ход истории. По куражу, который, если очень-очень повезет, появляется в тебе, и тогда получается всё, и ты знаешь, чувствуешь, что вот с именно сейчас, ты можешь сделать это и вот это — и всё получится, эти редчайшие мгновенья сумасшедшей, абсолютной Удачи, которые не променяешь никогда и ни на что, которые будешь помнить потом всегда, потому что они чрезвычайно редки, эти хрупкие мгновенья.
Тоска по белой мгле, которая — словно ватой — окутывает склоны вместе со всеми звуками, и не слышно ничего, и ты, плывя сквозь оглохшую тишину на кресле вверх и ловя взглядом проявляющиеся в тумане зыбкие тени деревьев и скальных выступов, инстинктивно начинаешь откашливаться или шумно поправлять воротник куртки, чтобы хоть какие-то звуки были слышны в белом безмолвии. Тоска по такому необходимому именно сейчас глотку обжигающего чая из белого пластикового стаканчика, заодно согревающего замерзшие руки. По гулу в заполненном раскрасневшимся от уютной теплоты людом кафе, в котором, когда входишь, очки сразу же напрочь запотевают, и ты отряхиваешься, сбрасывая снежные брызги с плеч, и снимаешь или сдвигаешь очки, чтобы увидеть всю эту теплоту, и краем глаза поймать взмах руки знакомого, приглашающий за стол с подвинувшимся для тебя народом, знакомым или незнакомым — не имеет значения, вы сейчас здесь все — свои.
По медленному погружению всего того, что тебя окружает, в темноту, которая как бы заливает горы, — в конце концов в эту темноту опускаются и огненно-оранжевые верхушки самых высоких вершин, а потом и небо темнеет, и на нём проявляются звезды, и наступает морозный вечер, и снег начинает хрустеть под ногами, когда возвращаешься к себе. По точкам огоньков на склоне, висящим ночью ровно посередине между засыпанной мерцающим голубым серебром землёй и провалом неба, и по ночным воплям шакалов. По мгновеньям какой-то особенной, физически осязаемой тишины, которая иногда возникает далеко за полночь в кругу сидящих в комнате людей, наблюдающих за медленно опускающимися хлопьями чая в трехлитровой банке. По какому-то непонятному, с оттенком дерева, вкусу чая с облепихой, которую добавляли в эту самую банку с чаем.
Горизонтальное городское пространство кажется бесконечным — может быть, из-за не имеющих ни конца, ни начала, теряющихся в смоге лент стоящих в пробках машин, или из-за того, что откуда бы ни смотрел — края этого моря крыш не видно. В то же время оно, это городское пространство, ограничено со всех сторон, свободно только направление вверх, к небу. Может быть, именно в поисках дополнительных степеней свободы мы и едем в горы.— туда, где кроме вправо-влево-вперед-назад можно еще вверх и вниз? Просто надоедает эта городская ограниченность движений, громкости разговоров или криков, невозможности выкрикнуть что-то громкое, задорное, просто потому, что хочется, от переполняющих тебя чувств. Да и не хочется выкрикивать, разве что спьяну — но ведь это же не то, это ведь совсем другое — спьяну: это не от твоей внутренней свободы, а благодаря развязывающему ограничения алкоголю...
Может быть, ты тоскуешь по тем местам, где можно нырнуть под огораживающий трассы «волчатник», и оказаться один на один с горами, хотя бы ненадолго освободившись от всего того, что ограничивает твою свободу, опутывает тебя невидимыми, но от этого не менее прочными нитями, в городе? Тоскуешь по тем сохранившимся заповедным уголкам, где еще можно испытать себя, раздвинуть границы того, что «можно», загнав в дальний уголок невостребованное «нельзя»?
Или эта тоска — по возвращению? По возвращению в знакомый до мелочей мир, который не меняется, что бы ни происходило, поскольку с точки зрения вечности всё, что произошло со времени твоего отъезда отсюда, — не играет никакой роли и не имеет ни малейшего значения. Тоска по всему, с чем у каждого из нас ассоциируются горы и лыжи — они ведь у каждого свои, при всей внешней похожести и нас, и гор, и лыж...
А может быть, мы там становимся такими, какими хотим быть или казаться: кто-то сам собой, сбросив городскую шелуху, а кто-то — быстрее, сильнее и даже моложе, несмотря на седину? Может быть, для нас тоска по горам — это тоска ещё и по собственной молодости, по несбывшимся из-за «обстоятельств» надеждам и мечтам, по переходам через перевалы и ледники, походам, восхождениям, палаткам, дружбе и любви — по всему тому, чему не суждено повториться, что мы вспоминаем, как самое яркое и самое лучшее, что было в нашей жизни. Мы каждый год возвращаемся к тем местам, где нам было хорошо, в надежде на то, что там снова будут те же горы, те же люди и те же эмоции...
На экране монитора, стоящего на моем рабочем столе в офисе — заснеженные горы. Утром, включив компьютер, я пару минут смотрю на то, как солнце садится за хребет Аибга, и на какое-то время шершавый клубок тоски затихает, перестаёт ворочаться.
У тебя на мониторе другая заставка? Значит, ты ещё не начал тосковать. Ещё не брал в руки лыжи, не проверял остроту кантов, не рассматривал царапины, не пытался открыть в сторону переднюю головку креплений... Значит, ты ещё в лете.
Знаешь, я тебе даже чуть-чуть завидую.
Потому мне хочется в горы.
Автор: Георгий Дубенецкий
Годы: 2003
Издание: «Лыжный спорт»